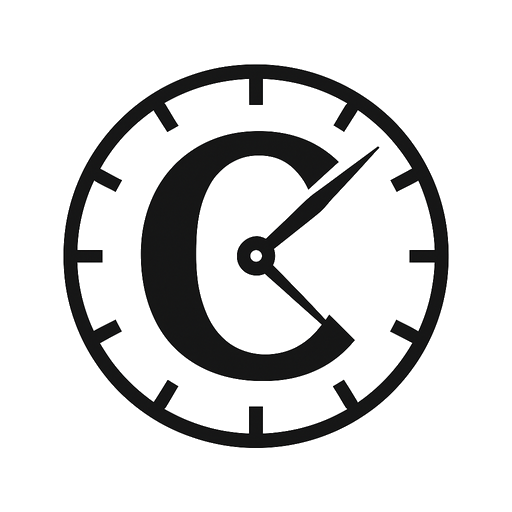Мы из тех, кто успел
Мы, родившиеся на излёте пятидесятых, — последняя партия “настоящих”. Не героических — бытовых. Не романтических — повседневных. Уже без коммунарского сияния и без павки-корчагинского моторчика, который вечно “надо”, “должен”, “вперёд”. Мы пришли на свет в момент, когда вера уже отцветала, а привычка делать вид ещё не выросла в монумент. Поэтому мы получились чем-то средним: циничные по привычке, наивные по инерции и удивительно уверенные в собственной исторической миссии, которой никто, кроме нас, не замечает.
Но главное — мы успели вдохнуть тот воздух. Такой, что сегодняшние экологические инспекторы, подойдя с прибором, просто сядут на корточки и начнут плакать. В нём мог смешаться выхлоп самолёта с запахом ракетного топлива и ещё с чем-то, что в нормальном мире выдаётся только по спецпропуску. Мы росли в атмосфере, где кино и космос жили бок о бок: на соседней странице школьного дневника помещались Ален Делон и “Луна-16”, и это никого не смущало.
Мы ели мороженое “как положено”, писали чернилами и переживали за мир во всём мире так искренне, будто нас за это похвалят.
Наша главная специальность — “как бы”
Если коротко, мы — поколение “как бы”. Мы всё делали приблизительно: как бы учились, как бы работали, как бы любили, как бы бунтовали. У нас всегда был запасной выход: “я вообще-то пошутил”, “вы неправильно поняли”, “это не то, что вы думаете”. Мы обожаем неопределённость не потому, что она сложная, а потому что она безопасная. В ней не нужно отвечать.
Это мы просрали всё, что можно просрать. А что было нельзя, потому что прибито, — мы отодрали, доказали, что можно, и тоже просрали. И ведь что интересно: никто не держал нас за рукав. Никакой злой режиссёр эпохи не шептал: “давай-давай, испорть”. Мы сами. С чувством, с толком, с расстановкой. Умеем же, когда захотим.
Девяностые, эти предельно ясные уроки, нас тоже не собрали. Там было всё написано крупным шрифтом: “расслабленным ходить нельзя”. Но мы ухитрились — и ходили. Мы умеем расслабляться под звук сирены. И дожили до нынешних дней большими капризными пионерами: с аритмией, плохими сосудами и внутренним ощущением, что нас недооценили. А если недооценили — значит, мы правы.
Самомнение: бесконечная линия обороны
Мы унылы, и это у нас системно. Мы врём без причины — как дышим. Прежде всего себе. Наш разум — как гараж, в который десятилетиями заносили всё подряд: битые детали, старые лозунги, обрывки высоких речей и пару книжек “для души”. И вот мы стоим среди этого и говорим: “сложное мышление”. Нет, это не сложное мышление. Это просто бардак, который нам лень разобрать, но очень хочется называть “многогранностью”.
Мы ссыкливы и истеричны — и при этом уверены, что являемся редкой породы умниками. Музейный экспонат: “человек неоднозначный, самоходный”.
Понты у нас особенные: понты без заявлений. Мы не говорим “я крутой”, потому что страшно — вдруг попросят подтвердить. Мы действуем тоньше: изображаем крутость так, чтобы в любой момент можно было откатиться в невинность. “Да нет, вы что, я вообще ни при чём”. И вот так мы живём: понтами как бы пахнет, но понты не оформлены. Юридически чисто. По совести — как обычно.
Коммуникация как чужая вера
С нами не хотят иметь дело старшие — потому что мы наглые, но без результата. И младшие — потому что мы говорим длинно, а делаем криво. Мы не умеем взаимодействовать. Совсем. У нас любой разговор превращается либо в театральную сцену, либо в “всё сложно”, либо в молчаливую обиду с последующим исчезновением в туман.
С начальством у нас три жанра. Первый: картинно выёживаться — недолго, не до конца, чтобы не прилетело. Второй: картинно терпеть — с выражением страдания на лице, чтобы все видели, какой ты стойкий. Третий: картинно лизать — без огонька, как будто выполняешь норматив. Всё это неискренне и неэффективно, но зато даёт ощущение участия в большой социальной игре.
С подчинёнными — цирк. Мы либо “простите-извините”, либо внезапно “сталинский нарком”, причём оба режима включаются одинаково не вовремя. Мы путаем управление с эмоциональным выплеском. Нам кажется: если повысить голос, значит, ты руководишь. А если потом резко стать добрым, значит, ты гуманист. В реальности ты просто нервный человек, которому дали полномочия.
Почему с нами не работают “в охотку”
Потому что работать с человеком можно, когда он предсказуем. Это называется простота. Простота — не глупость. Простота — это чёткость. “Я делаю вот это, в такие сроки, за такие деньги, и если что — говорю словами”. Это то, за что нормальные люди уважают друг друга: за ясность, за способность держать договор.
Рожденные в годы приватизации часто в этом отношении прекрасны: они знают, что халява не прокатывает, а косяки стоят денег. Поэтому они делают. И иногда делают больше, чем у них попросили. Потому что понимают правила.
Им достаточно однажды объяснить: “за работу платят, за косяки спрашивают” — и мир становится ровным.
А у нас мир не ровный. У нас “внутренний космос”. Мы можем усложнять там, где нужно просто сделать. Можем спорить с очевидностью, потому что нам кажется: если мы спорим, значит, мы умные. А потом мы срываем сроки из-за отсутствия договорённостей, обижаемся, исчезаем и внутри себя оформляем это как принципиальный протест против несовершенства мира.
Финал, который мы заслужили
И вот мы стоим — уже не молодые, но по-прежнему слегка пионеры. С тем самым детским ощущением, что “нас должны понять”. И с взрослой привычкой, что “мы никому ничего не должны”. Мы хотим, чтобы нас уважали за сложность, но сами избегаем простого: ответственности, ясности, прямой речи.
Смешно? Очень. Узнаваемо? Ещё как. Обидно? А вот это уже признак того, что текст попал туда, где у нас вместо органа “выводы” стоит орган “самооправдание”. Но ничего. Мы поколение живучее. Мы и это переживём.
Хотя, если совсем честно: не факт, что с пользой.