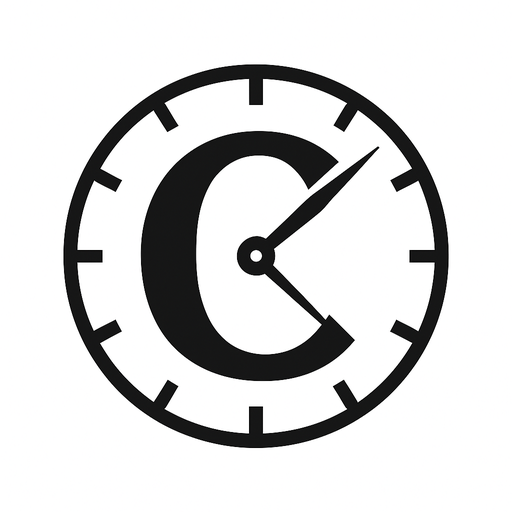И одна неловкая развилка: откуда взялись дети девяностых?
Вступление. Кто такой «средний советский человек»
Сейчас модно говорить о «совке» так, будто страна делилась только на партийную номенклатуру и забитых пролетариев. Но между ними жила огромная прослойка людей, которых позже назовут «средним классом», а тогда — никак не называли.
Инженеры, младшие и средние военные чины, старшие экономисты, заведующие отделами, преподаватели, врачи. Тот самый советский человек среднего звена, у которого были обязанности перед системой и своя маленькая личная жизнь между планами, отчётами и очередями.
Люди в массе своей честные, не склонные к подвигам, но и не склонные к подлости. И тем острее сегодня звучит вопрос: как так получилось, что из их детей вырос костяк рэкета, криминальных «авторитетов» и первых олигархов девяностых?
Я был одним из этих «средних» — и вспоминаю не только с ностальгией, но и с попыткой ответа.
Работа. План, отчёт и тихая самодеятельность
Рабочий день начинался не с кофе, а с планёрки. План спускали сверху — аккуратный лист бумаги, в котором было всё, кроме реальности.
На заседаниях говорили одно и то же:
— План напряжённый, но выполнимый.
Все понимали, что это не так, но вслух этого не произносили. Наша задача, людей среднего звена, была проста и сложна одновременно: перевести фантазию в цифрах в более-менее приличную правду, чтобы и наверху не ругали, и внизу не взвыли.
Мы лавировали. Где-то завышали проценты выполнения, где-то приписывали пару вагонов продукции, которые реально выйдут только в следующем квартале, где-то, наоборот, занижали показатели, чтобы было куда «подскочить к празднику».
Так формировалась тихая, никем не сформулированная школа: как жить между буквой и реальностью. Не красть, не предавать, но и не говорить всей правды. Умение «чуть-чуть приукрасить» и «чуть-чуть обойти» воспринималось не как порок, а как профессиональный навык.
Дети всё это видели. Не детали отчётов, конечно, а сам принцип: правда — одна для отчёта и другая для кухни. Для нас это было вынужденной адаптацией, для них — естественной средой взросления.
Быт и дефицит. Не бедность, а охота
Сегодня про СССР часто говорят как про сплошную нищету. Это не совсем так. Мы жили не богато, но стабильно: зарплата была предсказуемой, коммуналка — подъёмной, голода не было. Главное слово быта — не «бедность», а «дефицит».
Средний советский человек жил как охотник. Не за мамонтом — за сервелатом, колбасой «Докторской», чешскими сапогами, болгарской стенкой.
— Завезли! — шёпотом передавали по отделу.
И мы, уже далеко не мальчики и девочки, мчались занимать очередь, записывали друг за друга, обменивались талонами, подключали знакомых продавцов. В этом странном мире «по блату» не считалось преступлением, скорее — нормой выживания.
Дома стояли стандартные, но в каждом окне была своя маленькая гордость: югославская стенка, польский ковёр, венгерский сервиз. Это были не просто вещи — личные победы над системой снабжения.
Наши дети усвоили важный урок: честным трудом можно жить, но по-настоящему «достать» лучше через связи и лазейки. Для нас это была бытовая хитрость, для них — первая ступень к будущей логике: «главное — умело обойти правила».
Отпуск и отдых. Санаторий вместо морей
Границы для среднего советского человека были просты: Крым, Кавказ, Прибалтика — предел обычных мечтаний. Карловы Вары, Золотые Пески — зона легенд, доступная единицам.
Мы отдыхали по профсоюзным путёвкам. Санаторий, грязи, минеральная вода, обязательная культурная программа. С утра — процедуры, днём — тихий час, вечером — танцы под живой ансамбль.
Иногда везло — путёвка в хороший дом отдыха под Ригой или в тёплый Сочи. Вечером гуляли по набережной, ели мороженое по 20 копеек и чувствовали себя почти иностранцами, не имея ни загранпаспортов, ни виз.
Детям мы честно говорили: «Людям повыше везёт больше». Без злобы, с лёгким смирением. Мы привыкали к мысли, что правила не равны для всех, и это тоже становилось частью семейной педагогики — неосознанной, но действенной.
Дети и воспитание. Между верой и двоемыслием
Дети среднего советского человека росли в той же системе, но мы уже смотрели на неё трезвее, чем наши родители. В пионерию и комсомол мы их отправляли без восторга, но и без саботажа:
— Так положено, так проще жить.
Утром — линейка, галстук, политинформация. Вечером — дома «Boney M» на магнитофоне «Весна» или самодельные кассеты с «Машиной времени».
Мы жили в двойной системе координат:
днём — правильные слова, вечером — осторожные шутки Жванецкого и «Голос Америки», пойманный на коротких волнах.
Мы искренне хотели детям лучшей жизни. Учёба, институт, «нормальное распределение» — так выглядел наш набор мечтаний. Мы не собирались ломать систему, мы хотели максимум человеческого внутри существующих рамок.
Но дети видели другое: что для внешнего мира одно, для «своих» — другое. Что можно публично говорить правильные слова, а по факту жить по негласным правилам: «не высовывайся», «решать лучше через знакомых», «бумага всё стерпит».
Когда государство рухнуло, именно им — этим детям — пришлось жить уже не в двойной морали, а в разомкнутом мире, где старые запреты исчезли, а внутренних тормозов ещё не появилось.
Идеология. Плакатная вера и тихий скепсис
Средний советский человек не был ни фанатичным верующим в коммунизм, ни убеждённым диссидентом.
Мы жили под лозунгами «Мир. Труд. Май» и «СССР — оплот мира», но на кухнях всё чаще звучало:
— Ну ладно, оплот… А в магазине снова пусто.
Политинформацию слушали по привычке. Отдельные слова действительно вдохновляли, особенно у тех, чьи семьи прошли войну. Но к восьмидесятым ощущение фальши росло: газеты писали одно, жизнь показывала другое.
При этом циниками мы себя не считали. У многих жила надежда: «страна выберется, подтянет экономику, надо ещё немного потерпеть».
Для детей это выглядело иначе. Они видели взрослых, которые вслух повторяют одно, а всерьёз верят в другое. Двоемыслие становилось нормой. И когда идеологический каркас рухнул, на его месте не оказалось ни общей идеи, ни общей меры допустимого. Пустоту быстро заняли простые формулы девяностых: «кто успел — тот и прав», «деньги не пахнут», «закон — для дураков».
Маленькие радости и маленькие сигналы
При всех недостатках система давала и радости. Фильмы, которые смотрели всей страной и цитировали наизусть. Концерты, самодеятельность, рыбалка, субботники, которые порой превращались в коллективный пикник.
Мы гордились своими заводами и училищами, военными городками и научными институтами. Для нас это были точки опоры.
Но рядом существовало и другое: «хозяйственные связи», цеховики, «левые» заработки, заказные дефицитные ремонты. Мы не лезли в эту сторону, но дети видели, что люди, у которых «что-то припрятано», живут заметно лучше.
Когда в девяностые слово «цеховик» стало превращаться в слово «бизнесмен», часть этого поколения пошла по прямой логике: раз всё можно, значит, главное — брать по максимуму, пока дают. И то, что мы воспринимали как порог «туда лучше не ходить», для них стало точкой старта.
После СССР: кто кем стал
Когда Союз рухнул, мы, люди среднего звена, потеряли не только работу и привычные структуры, но и язык, на котором объясняли детям мир.
Те, кто был помоложе, подстроились: пошли в кооператоры, в коммерцию, в малый бизнес. Кто-то честно торговал на рынке, кто-то ушёл в криминал, кто-то — в большую приватизацию.
В костяк девяностых — рэкетиров, «решал», олигархов первой волны — действительно вошли во многом дети того самого советского среднего слоя. Не «чистые бандиты» с окраин, а люди, выросшие в приличных семьях, в приличных школах, в приличных городках.
Нельзя сказать, что их так «воспитал» СССР. Но честно нужно признать: мы дали им пример жизни в полуправде, пример уважения к силе, а не к закону, пример того, что «правила для своих — одни, для остальных — другие».
Когда исчез страх наказания и одновременно устарел моральный кодекс, часть этого поколения просто довела наши невинные бытовые практики до логического конца.
Запределье среднего человека
Для меня СССР — это запределье. Не рай и не ад, а закрытая страна, куда больше нельзя вернуться поездом Москва—Одесса или билетом до Сухуми.
Туда можно попасть только через запах маминого борща, шорох магнитной ленты, холодный свет люминесцентных ламп в отделе и горячий чай в гранёном стакане.
Но вместе с этой тёплой ностальгией живёт и другой вопрос: что именно мы передали своим детям — кроме хороших воспоминаний? Не мы ли сами, люди среднего звена, своим упрямым умением «как-нибудь выкрутиться» подготовили почву для девяностых, где выкручиваться стали до крови и чужих костей?
Средний советский человек не попадёт ни в учебники, ни в парадные хроники. Но именно из миллионов таких биографий выросло поколение, которое сначала разобрало страну по кирпичикам, а потом построило на обломках новый мир — жестокий, быстрый и очень далёкий от тех плакатных мечтаний, с которых мы когда-то начинали.